Графа "род занятий" / за тридевять земель
Екатерина Краснюк
об эпикризах, трехмерном сердце и плоскогубцах травматолога
об эпикризах, трехмерном сердце и плоскогубцах травматолога
Фотографии: Nino Gehrig
Я закончила немецкий иняз в 2007 году и уже твердо знала, что в Москве не останусь. За полгода до окончания университета я провела семестр в Берлине, как у нас говорили, «по обмену», хотя берлинских студентов у нас мы никогда не видели. После полугода в Берлине я вернулась с намерением уехать за границу, хотя бы на время.
Мне всегда хотелось учиться на другом языке, общаться с людьми разных национальностей, оказаться в непривычной обстановке, путешествовать, одним словом, пожить другой жизнью.
В Германии образование бесплатное для всех, будь то граждане или иностранцы, и реальная возможность найти достойную работу, если специальность востребована. А также, как приятное дополнение ко всему прочему, удобная, комфортная жизнь среди воспитанных, законопослушных людей. Берлин всегда привлекал меня тем, что он, как Нью-Йорк – плавильный котел, где можно встретить людей со всего света: из соседней Франции, с арабского Востока, с Берега Слоновой Кости, из Японии… А это значит, что быть приезжим здесь не зазорно.
В Германии образование бесплатное для всех, будь то граждане или иностранцы, и реальная возможность найти достойную работу, если специальность востребована. А также, как приятное дополнение ко всему прочему, удобная, комфортная жизнь среди воспитанных, законопослушных людей. Берлин всегда привлекал меня тем, что он, как Нью-Йорк – плавильный котел, где можно встретить людей со всего света: из соседней Франции, с арабского Востока, с Берега Слоновой Кости, из Японии… А это значит, что быть приезжим здесь не зазорно.
Поступать на медицинский я отважилась не сразу. Медицина меня интересовала всегда. Не знаю, какую в этом роль играет наследственность (мои бабушка и дедушка были врачи), но курсе на третьем я почувствовала, что упустила что-то важное, изучая только языки, хотя прежде вопрос о медицинском образовании не поднимался никогда.
Как только мне представилась возможность уехать и начать всё сначала, я решила, что это последний шанс наверстать упущенное. Процедура поступления ограничилась подачей документов с языковым тестом и конкурсом аттестатов (в немецких ВУЗах нет вступительных экзаменов, но чтобы поступить на медицину, немецкие абитуриенты должны закончить школу, так сказать, «с золотой медалью»).
Проблемы, с которыми сталкиваешься на новом месте, это сплошная черная полоса, которую нужно пережить, перетерпеть и не забывать, что она когда-нибудь закончится.
Я типичный гуманитарий, люблю историю Средних веков и романы Бёлля. А тут заставляют расчленять трупы, зубрить формулы и называть каждую мышцу ее латинским именем.
Как таковых проблем с языком в смысле понимая и говорения у меня не было: выручил иняз, опыт работы переводчиком и преподавателем. Но внезапное осознание, что вокруг тебя люди даже думают на другом языке, что ты уже не можешь выражать мысли так полноценно и образно и так непринужденно, как на родном, что на чужом языке ты только на половину ты – всё это очень неприятные открытия для человека, для которого много значит слово и который привык мерить уровень образованности окружающих по их речи. А тут ты вдруг сам деградируешь до «какого-то приезжего, который пары слов связать не может». И хотя видимых проблем с вербальным общением у меня нет, с этим фактом я не могу смириться до сих пор.
Когда я поступила на медицинский, я была на пять-шесть лет старше среднего абитуриента.
В этом возрасте начинать и легче, и сложнее одновременно. Легче – потому что решение как будто было принято более осознанно, чем в 16-19 лет. А сложнее – потому что больше страхов, смогу ли, успею ли, хватит ли отрывочных, давно забывшихся за ненадобностью школьных знаний по физике, химии и биологии. Я типичный гуманитарий, люблю историю Средних веков и романы Бёлля. А тут заставляют расчленять трупы, зубрить формулы и называть каждую мышцу ее латинским именем. Психиатрией я начала интересоваться задолго до медицины и поступала с мыслью стать психиатром. Курса со второго я заинтересовалась кардиологией, а потом всё равно вернулась к психиатрии. Сейчас план такой: поработать года два в терапии, чтобы ориентироваться во внутренних болезнях, а потом свернуть в психиатрию.
Учеба здесь совсем другая, не такая, к какой мы привыкли в Москве. Здесь нельзя учиться по лекциям, мало устных экзаменов, нет фронтальных опросов и домашних заданий. Теоретически в течение семестра можно вообще не учиться, а к экзаменам готовиться по тестам предыдущих семестров. Из студентов-медиков так, конечно, не делает никто. Все, как солдаты, готовятся к каждому семинару, переворачивают горы литературы и мечтают блеснуть правильными ответами. Другие студенты называют медиков Streber, т.е. «ботаники» или «выскочки».
Преподаватели мало интересуются текущей успеваемостью студентов. Они, так же как и у нас, могут при желании завалить на устном экзамене или невзлюбить за происхождение (со мной такое было однажды на экзамене по анестезиологии), но в целом преподавателям студенты глубоко безразличны. Они сливаются для преподавателей в безликую массу, благодарную или неблагодарную аудиторию, но практически безразличную им.
Старшие курсы.
На старших курсах нашими преподаватели были уже не теоретики, а врачи из клиники, и занятия наши проходили в стационаре, «у постели больного», в маленьких группах по 10 человек. Доктора уже не так формально, как анатомы или физиологи, подходили к своим педагогическим обязанностям. Особенно среди Oberarzt'ов, «старших врачей» (предпоследняя ступень врачебной иерархии), очень много настоящих звезд, они ужасно интересно рассказывают, у них большой врачебный и человеческий опыт и кругозор, для студента они самые ценные наставники. И если тебя во время практики взял под крыло какой-нибудь Ober, тебе здорово повезло. Кстати, о практиках. Они обязательны, их нужно искать самостоятельно, никакого распределения от университета нет, и самое в них неприятное, они занимают почти все каникулы. Зато есть возможность осмотреться, побывать в разных больницах и отделениях и постепенно выбрать себе будущую специальность. Чем больше знаешь и умеешь, тем ты полезнее в отделении. На младших курсах я чувствовала себя беспомощной и никчемной, а когда научилась брать кровь, вводить венозный катетер, различать сердечные и дыхательные тоны и шумы, писать и диктовать эпикризы – начали уважать, принимать всерьез, доверять сложные процедуры, которыми потом можно хвастаться: пункция плевральной полости, интубация, гемотрансфузия.
На первых курсах мы учили основополагающие для медицины предметы: анатомию, нормальную физиологию, гистологию (наука о тканях), биохимию.
Были еще обожаемая мной латынь и история медицины. Было, возможно, что-то еще, но на это что-то сил всё равно не хватало, и, наверное, поэтому оно стерлось из памяти. Латынь, как и психиатрия, то, что связывает мои теперешние занятия с моей первой специальностью, которую я тоже очень люблю. Латынь была единственным предметом, в котором я себя чувствовала на голову выше однокурсников. Хотя нужна она, строго говоря, для изучения нормальной анатомии. Правда, клиницист по большей части имеет дело с греческими словами – названия всех болезней, патологических симптомов и врачебных специальностей имеют греческие корни. Но, по-моему, именно в латыни есть что-то фаустовское, средневековое и магическое.
Из всех предметов мне почему-то запомнилась микробиология.
Мы снимали отпечатки собственных пальцев на агар-агар и выращивали колонии бактерий из того, что осталось на руках после поездки в метро и автобусе. Первым серьезным вызовом был курс по препарированию. Сначала нам дали подержать настоящие человеческие кости, потом посмотреть на настоящее человеческое тело, а потом объявили, что мы уже морально готовы к тому, чтобы начать его резать. Мне было трудно вжиться в эту роль, но со временем первый шок проходит, и к моргу начинаешь относиться как к обычной аудитории. Я застала то время, когда занятия в морге были дважды в неделю по полтора часа. Но два года назад в Берлине сократили курсы по препарированию до нескольких часов в месяц. А для российских студентов, насколько я знаю, они вообще не являются обязательными. Мне кажется, это очень обедняет медицинское образование. Кроме двухмерной картинки в атласе, которая, разумеется, не может передать всей сложности устройства трехмерного сердца, и ненатуральных объемных макетов, анатомию, в общем-то, учить не на чем.
Препарирование со времен Леонардо остается, наверное, самой наглядной иллюстрацией и самым надежным источником информации, для кого-то, возможно, спорным этически.

Медицина и учеба на медицинском – это колоссальный человеческий опыт и испытание на прочность. Честно признаться, я не отдавала себе отчета в том, что меня ожидает, когда подавала документы в Шаритэ.
Неожиданных открытий было много:
Случайных людей в медицине мало.
Медики – действительно в массе своей очень неглупые люди. Они фантастически работоспособны и гиперответственны.
Отечественная медицина действительно сильно отстает в своем развитии от европейской, и это не в последнюю очередь происходит потому, что клиническая (практическая, занимающаяся лечением больных) медицина немыслима без развитой научной базы.
Медики – действительно в массе своей очень неглупые люди. Они фантастически работоспособны и гиперответственны.
Отечественная медицина действительно сильно отстает в своем развитии от европейской, и это не в последнюю очередь происходит потому, что клиническая (практическая, занимающаяся лечением больных) медицина немыслима без развитой научной базы.
Шаритэ (берлинская университетская клиника и одноименный медицинский факультет, где я учусь) и ее лаборатории – это такой город будущего, с тысячей лабораторий, подопытными животными, пробирками, электронными микроскопами и невероятной концентрацией человеческой энергии и интеллекта. А еще этот город будущего исправно финансируется, быстро реагирует на изменяющиеся условия и предельно открыт для обмена информацией, так как постоянно общается с научными кругами по всему миру. Обмен информацией здесь вообще один из главных приоритетов и буквально поставлен на поток. Например, любому студенту с любого университетского компьютера доступна общемировая база данных PubMed, где можно найти последние публикации на медицинские темы.
В интересах студента сделать так много практик, сколько хватит сил.
Желательно в разных областях – чтобы определиться в итоге, чем хочется заниматься. Поэтому от каникул много времени не остается, лето проходит в больнице. Я никогда всерьез не интересовалась хирургией, но получалось так, что каждый раз оказывалась там в «свободное» от учебы время. Студент, даже и начинающий врач, мало на что пригоден на операции. Я тоже, как все начинающие, держала крючки и переминалась с ноги на ногу, пытаясь отстоять три часа, не меняя позы, пока удаляют желчный пузырь или вырезают часть толстого кишечника. Иногда было много крови, особенно когда оперировали щитовидную железу. Еще очень запомнилась практика в «травме» после первого семестра. Меня тогда потряс набор инструментов травматолога. Он очень напоминал набор инструментов какой-нибудь слесарной мастерской: плоскогубцы, пилы, гвозди в палец толщиной, винты, крючки, зубила.
Хирургия – захватывающий предмет, и хотя в нем для стороннего наблюдателя чересчур много прозы, хирург трогательно и поэтично предан своему делу, оно для него – вечный источник жизненной энергии.
Чтобы быть хирургом, нужно быть человеком дела, почти ремесленником, любить краткость и четкость. В хирургии мало говорят и пишут, зато много делают тяжелой работы. Я в неделю могу выстоять в среднем три операции без ущерба для работоспособности. Хирурги выстаивают по три операции каждый день. Неудивительно, что они и в профессии, и в жизни достаточно жесткие и требовательные люди с фантастической реакцией и скоростью. Мы с ними определенно на разной волне.
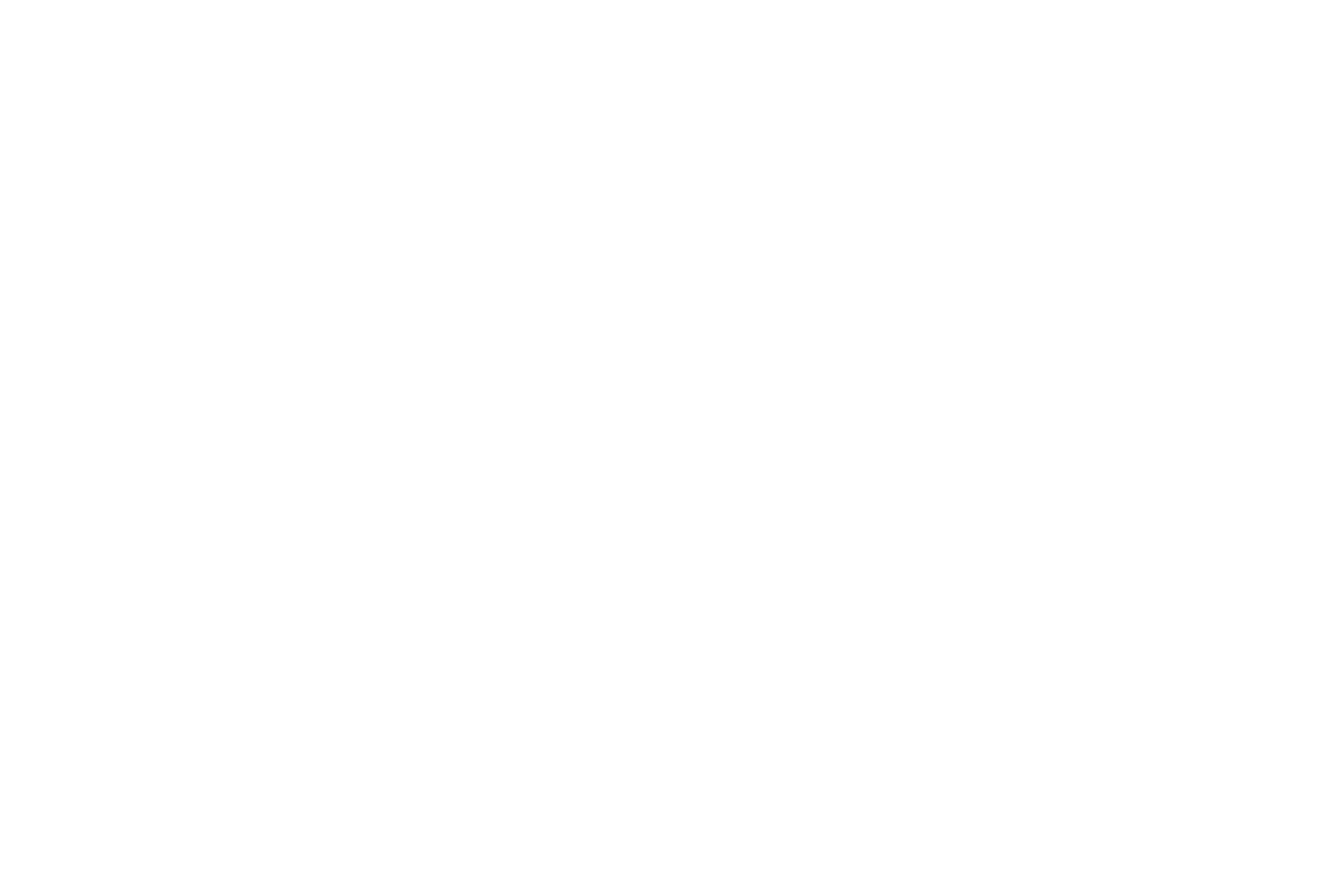
В любой стране к врачу предъявляются невероятно высокие требования. Ожидается, что человек будет совершать сверхчеловеческое
На последнем, шестом курсе все немецкие студенты-медики делают годовую практику в больнице.
Этот год разделен на три триместра: четыре месяца хирургии, четыре месяца внутренних болезней и еще один триместр «по выбору».Сейчас мне кажется, что вот этот-то год и есть самое главное, что мне дал университет. Есть возможность набраться минимального опыта перед началом самостоятельной работы, есть шанс подумать и попробовать себя в разных ролях, даже если не собираешься связывать с ними свою дальнейшую карьеру. Это очень расширяет кругозор, врачу это полезно. В 21-ом веке никто, разумеется, не бросит вчерашнего студента на произвол судьбы, как это описывал Булгаков в «Записках юного врача», где у его двадцатитрехлетнего героя первая же процедура, которую он провел как единственный врач сельской больницы, была ампутация ноги. Но к определенным неотложным случаям все же лучше быть готовым, даже если не придется справляться с ними в одиночку. Без клинического опыта, уверенности в себе и своих силах, без самообладания опытного врача в клинике по началу очень трудно.
Роль врача – это много ролей одновременно.
Нужно балансировать между тем, чтобы угодить своему старшему врачу, угодить пациенту, справиться со всем объемом работы в срок, сэкономить средства своей больнице, не забывать про самообразование, а еще не выйти из строя при таких нагрузках. В каждой этой роли врача оценивает пристрастный взгляд, и очень часто требования руководства расходятся с ожиданиями пациентов. Получается, что единого для всех понятия «хороший врач» просто не существует: у пациентов свои представления о «хорошем враче», руководство вкладывает в него совсем другой смысл. Для пациента, как правило, хорош тот, кто обладает определенным набором человеческих качеств. Т.е. для больных хороший человек в белом халате значит хороший врач. Начальство, в свою очередь, интересует, как быстро и аккуратно ты выполняешь свою работу, в том числе как ты справляешься с огромными объемами бумажной и организационной работы, никак не связанной с медициной.
Многие пожилые пациенты, которые помнят «прежнюю» медицину, где все шло своим чередом, без цейтнота и экономии, жалуются, что врачи потеряли человеческое лицо, перестали разговаривать с больными, думают только о том, как бы навязать им очередное дорогостоящее исследование и побыстрее отправить домой. Новое поколение врачей действительно обучено скорее обслуживать пациента, чем «исцелять» его.
В условиях постоянного цейтнота на разговоры времени почти не остается. Отчасти этим объясняется жесткость, суховатость и отстраненность нового поколения врачей. По статистике, при первом разговоре и первом анамнезе врач перебивает пациента уже на первой минуте, потому что, на его взгляд, пациент сообщает ему лишнюю информацию.
Коммуникация сведена до минимума, и часто получается так, что больной даже не понимает, что с ним делают, для чего у него каждый день берут кровь или опять везут на рентген.
Новое поколение врачей действительно обучено скорее обслуживать пациента, чем «исцелять» его.
Только после нескольких месяцев в немецкой больнице по-настоящему понимаешь, что такое public health в действии.
«Народное здравоохранение» здесь следует понимать буквально – как публичную библиотеку или заведение общепита, куда приходят ежедневно тысячи людей, их нужно обслужить, чтобы не было претензий и все потребности были удовлетворены по возможности надолго. Это очень прагматичный подход, и так здесь работает всё, не только медицина. Дело еще и в том, что немецкая медицина сверхъестественно дорога (люди, техника, лекарства) и должна работать с максимальным КПД, чтобы не стать убыточной. Экономический фактор определяет очень многое. Поэтому сокращаются койкодни, вместо открытых операций используют малоинвазивные методы, набирают студентов-практикантов, которым зарплаты не платят.
Для того чтобы механизм "Больница" работал без сбоев и приносил прибыль, в этой стране придумали тысячи сложнейших алгоритмов.
Тут клиническая медицина устроена так, что каждый пациент рассматривается как типовой случай и как таковой финансируется. Деньги за лечение поступают от страховой компании, в которую каждый гражданин в обязательном порядке ежемесячно вносит немаленькую плату. Тип «случая», его категория и, соотвественно, сумма, которую больница за него получит, выводится чуть ли не по формуле, состоящей из сложности ухода за больным, букетом его заболеваний, тяжестью актуального состояния, помноженными на все диагностические и терапевтические мероприятия, которым пациент подвергся. Таким образом, каждого больного причисляют к так называемой diagnosis related group, сокращенно DRG (немцы очень охотно пользуются английскими словечками).
Лечение еще более универсализируется тем, что каждый диагноз лечится по определенной, четко установленной и одобренной национальным врачебным сообществом (Budesärztekammer) инструкции, иначе Leitlinien (от англ. guidelines). Т.е. при подозрении на атипичную пневмонию сначалу делают рентген легких, затем до начала фармакотерапии берут кровь «на культуры» (пытаются обнаружить возбудителя в крови), затем назначают внутривенную «калькулированную» терапию определенными антибиотиками (которые каждый год или даже чаще пересматриваются). Что говорить о более сложных заболеваниях, например, всевозможных опухолях. Такие четкие инструкции не только заставляют всю диагностико-терапевтическую машину работать как часовой механизм, но и сводят до минимума возможные просчеты, а кроме того, немаловажно, снимают с врача уголовную ответственность в том случае, если лечение не принесет результатов или принесет результаты отрицательные. Это справедливо, честно и уравнивает всех действующих лиц в правах. По-другому поставить медицину на поток, наверное, невозможно.
Лечение еще более универсализируется тем, что каждый диагноз лечится по определенной, четко установленной и одобренной национальным врачебным сообществом (Budesärztekammer) инструкции, иначе Leitlinien (от англ. guidelines). Т.е. при подозрении на атипичную пневмонию сначалу делают рентген легких, затем до начала фармакотерапии берут кровь «на культуры» (пытаются обнаружить возбудителя в крови), затем назначают внутривенную «калькулированную» терапию определенными антибиотиками (которые каждый год или даже чаще пересматриваются). Что говорить о более сложных заболеваниях, например, всевозможных опухолях. Такие четкие инструкции не только заставляют всю диагностико-терапевтическую машину работать как часовой механизм, но и сводят до минимума возможные просчеты, а кроме того, немаловажно, снимают с врача уголовную ответственность в том случае, если лечение не принесет результатов или принесет результаты отрицательные. Это справедливо, честно и уравнивает всех действующих лиц в правах. По-другому поставить медицину на поток, наверное, невозможно.
«Человечность» в медицине.
Возможно ли поставить «медицинский цех» на более «человечные» рельсы?
Недавно читала книжку одного хирурга по имени Берндт Хонтчик (Bernd Hontschik). Ничего особенного, карманная брошюрка. Меня заинтересовала название: Тело, душа, человек. Размышления об искусстве врачевания. (Körper, Seele, Mensch. Versuch über die Kunst des Heilens.) Вот уж не думала, что хирург будет ратовать за возвращение «человечности» в медицину. Отработав много лет в стационаре и имея свою частную практику, он проводит мысль, что медицина должна перестать рассматривать каждого пациента как типовой случай, должна перестать руководствоваться исключительно понятиями прибыльности или убыточности и «повернуться лицом к пациенту». Он пишет, что «медицина без утопии и идеалов превращается в цех ремонтной мастерской, напичканной умной техникой». По сути, это с ней и произошло в последние десятилетия в Европе. Вопрос лишь в том, может ли быть иначе.
В условиях ограниченности ресурсов и строжайших требований к качеству, в условиях высокой себестоимости и наукоемкости, в условиях постоянно растущего потока пациентов (нация стареет, курение, нездоровый образ жизни и т.д.), возможно ли поставить «медицинский цех» на более «человечные» рельсы? Для себя я пока на этот вопрос не ответила. В любом случае, я думаю, что не стоит изобретать велосипед, то есть, некую новую систему, якобы более гуманную, чем существующая, которая должна прийти ей на смену. Здесь в немцах говорит их потребность, изобретать системы, сначала негуманную, но исправно работающую, потом так же исправно работающую, но более гуманную. Чтобы каждый шурупчик знал свое место и действовал согласно инструкции.
Представителям других национальностей, наверное, более очевидно, что «человечность» сама по себе не требует инструкции, и «индивидуальный подход» трудно поставить на поток. Гуманизация существующей теперь в Германии системы возможна, на мой згляд, только на этом самом «индивидуальном уровне», если каждый врач будет по-другому относиться к каждому пациенту. Но это нельзя требовать, к этому нельзя обязать, за несоблюдение этого нельзя судить. Человек на это способен или нет.
Представителям других национальностей, наверное, более очевидно, что «человечность» сама по себе не требует инструкции, и «индивидуальный подход» трудно поставить на поток. Гуманизация существующей теперь в Германии системы возможна, на мой згляд, только на этом самом «индивидуальном уровне», если каждый врач будет по-другому относиться к каждому пациенту. Но это нельзя требовать, к этому нельзя обязать, за несоблюдение этого нельзя судить. Человек на это способен или нет.
Немцам с их интеллектом, болезненной ответственностью и работоспособностью очень часто не хватает человечности. Это менталитет, а не несовершенство системы.
Психиатрия на задворках медицины.
Когда я говорю, что хочу заниматься психиатрией, как правило, встречаю в ответ сочувственные взгляды или замечания вроде «Ну что же, попробуй…» или «О Боже, какой ужас! Зачем тебе это?». Остальные медицинские специальности относятся к психиатрии скорее снисходительно, чем серьезно. Вообще я заметила, среди врачебных специальностей есть негласная иерархия. О ней догадываешься по тому, какого о себе мнения их представители. На первом месте, конечно, кардио- и нейрохирурги (с самомнением чемпионов), за ними все остальные хирурги, потом кардиологи, офтальмологи, гинекологи, потом другие внутренние болезни, и где-то в самом низу рейтинга психиатры, которые, как известно, ничего не знают и не умеют, только ведут беседы с психами, потому что сами они тоже не в себе. Психиатрия на задворках медицины. Даже психиатрические отделения в больницах где-то на отшибе, на окраине больничной территории. В российских психиатрических больницах и вовсе решетки на окнах.
Имидж психиатрии в Европе существенно поправила популярность депрессий.
Так уж получилось, что ими она тоже занимается и больше других про них знает. Диагноз, кстати, довольно скучный. Никакого романтического ореола вокруг него, во всяком случае для меня, нет. Зато вокруг самой психиатрии очень много мифов, несмотря на ее непопулярность в среде коллег другого профиля. Ее предмет трудно поддается исследованию, трудно понять что составляет ее научную основу: философия, психология, этика, с одной стороны, или нейробиология, с другой. Очень много необъяснимого. Взять, например, действие психотропных препаратов. Его невозможно объяснить так однозначно, как действие бета-блокаторов на сердце. Скажем, дисбаланс серотонина, который корректируют при депрессиях. Не установлено точно, что в возникновении депрессии первично – дефицит серотонина или процессы совсем другой, не биохимической природы, которые повлекли за собой нарушение серотонинового обмена. А это проблема уже философская: что в основе явления, дух или материя. Знания о действии препаратов приобретаются очень часто эмпирически, путем наблюдения, как в случае с новыми антидепрессантами. В основе парадигм лечения часто гипотезы, а не доказанные факты.
Универсальное объяснение возникновения почти любого душевного недуга на сегодня так называемая «биопсихосоциальная модель», то есть предполагается, что предрасположенность к заболеванию определяют:
a) наследственность, генетика (био),
b) индивидуальные особенности, структура личности (психо),
c) социальная среда, климат в семье, круг общения (социо).
Это, наверняка, не исчерпывающее объяснение, и многие специалисты признают его компромиссной попыткой объяснить на сегодняшний день необъяснимое.
b) индивидуальные особенности, структура личности (психо),
c) социальная среда, климат в семье, круг общения (социо).
Это, наверняка, не исчерпывающее объяснение, и многие специалисты признают его компромиссной попыткой объяснить на сегодняшний день необъяснимое.
Психиатрия и антипсихиатрия.
Психиатрия настолько спорный предмет, что годов с 70-х существует даже движение антипсихиатрии, приведшее, например, в Италии к полному упразднению психиатрических стационаров. Антипсихиатры выступают за права больных, против принудительного лечения в закрытых учреждениях, против лекарств. Из известных литературных примеров, проникнутых «антипсихиатрическим духом» – «Над кукушкиным гнездом». Антипсихиатры представляют психиатрию как род пенитенциарной системы, где человеческую индивидуальность пытаются свести до заурядности, называемой психическим здоровьем.
Один из первых идеологов антипсихиатрии, или лучше, предтеча антипсихиатрии философ Мишель Фуко всерьез ставил под сомнение определение психического здоровья и нездоровья вообще. В беллетристике встречается мысль о том, что граница между нормой и патологией размыта. Эта мысль, как мне кажется, подсказана как раз антипсихиатрией. У того, кто видел шизофрению в фазе обострения, или острую суицидальность, или абстинентный синдром с делирием, наверное, сомнений по этому поводу не возникнет.
Что еще может помочь отличить норму от патологии? Есть в психиатрии такое понятие – уровень психосоциального функционирования. Он подразумевает самостоятельность человека в быту, способность выполнять привычные функции – работать, ходить в магазин, обслуживать себя, поддерживать социальные контакты. Иными словами, здоровье – это, кроме всего, жизнеспособность. Если какое-то состояние не позволяет делать простые вещи, которые здоровым людям кажутся элементарными, это уже нездоровье. Когда сломана нога, мы не можем ходить. Когда болит голова, мы не можем сосредоточиться. Когда депрессия, не хочется выходить из дома, видеть людей, нет энергии и сил работать, рассеивается внимание и слабеет память. Уже не говоря об острых психозах, когда весь мир вокруг становится враждебным. Все это нездоровье.
Один из первых идеологов антипсихиатрии, или лучше, предтеча антипсихиатрии философ Мишель Фуко всерьез ставил под сомнение определение психического здоровья и нездоровья вообще. В беллетристике встречается мысль о том, что граница между нормой и патологией размыта. Эта мысль, как мне кажется, подсказана как раз антипсихиатрией. У того, кто видел шизофрению в фазе обострения, или острую суицидальность, или абстинентный синдром с делирием, наверное, сомнений по этому поводу не возникнет.
Что еще может помочь отличить норму от патологии? Есть в психиатрии такое понятие – уровень психосоциального функционирования. Он подразумевает самостоятельность человека в быту, способность выполнять привычные функции – работать, ходить в магазин, обслуживать себя, поддерживать социальные контакты. Иными словами, здоровье – это, кроме всего, жизнеспособность. Если какое-то состояние не позволяет делать простые вещи, которые здоровым людям кажутся элементарными, это уже нездоровье. Когда сломана нога, мы не можем ходить. Когда болит голова, мы не можем сосредоточиться. Когда депрессия, не хочется выходить из дома, видеть людей, нет энергии и сил работать, рассеивается внимание и слабеет память. Уже не говоря об острых психозах, когда весь мир вокруг становится враждебным. Все это нездоровье.
Некоторые думают, что психиатры сами нездоровы, как их пациенты, или что люди, выбирающие психиатрию, ищут решения своих же проблем. Начнем с того, что проблемы есть у всех. Это не значит, что «болен каждый».
Между нормой и патологией, что бы ни говорили, границы довольно различимые для вооруженного глаза. Просто пока всё в порядке, тогда и помощь не нужна. Но, не дай Бог, происходит что-то неприятное, и тогда наше равновесие нарушается. На самом деле, в профессиональной поддержке нуждаются очень многие. Например, матери детей-инвалидов, люди, ухаживающие за немощными родителями, взрослые, страдающие аутизмом или синдромом дефицита внимания, выжившие в автокатастрофе или бывшие в заложниках, женщины жертвы семейного насилия. Всё это пример экстремальных нагрузкок, под действием которых редкая здоровая психика не даст сбой. Всё это департамент психиатрии.
В отличии от психологии, психиатрия занимается грубыми отклонениями от нормы, нарушениями, требующими медикаментозного лечения, когда одного терапевтического разговора или интерактивных техник недостаточно. Для сравнения: общая психология изучает нормальные процессы, связанные с волей, памятью, вниманием, когнитивными функциями, она унаследовала от Гиппократа учение о темпераментах, дала определение характера и т.п. Но психология сама по себе – область знаний, как философия или лингвистика, не имеющая практического приложения. Если психологичекие знания использовать в терапевтических целях, получится психотерапия. Это как раз то, чем занимаются люди с психологическим образованием. Они еще могут наблюдать за поведением людей и животных, проводить статистические анализы, опросы общественного мнения и т.п. С психиатрией эти последние области никак не пересекаются. А вот психотерапия пересекается.
Имея медицинское образование в Германии и работая психиатром-ординатором, я могу, прослушав дополнительные курсы психотерапии, через шесть лет после окончания университета сдать еще один, третий, государственный экзамен на врача-специалиста и практиковать как психотерапевт. Многие психотерапевты здесь – это люди блестяще и всесторонне образованные, с огромным личным опытом и широким кругозором. Очень часто профессия буквально передается по наследству. Не исключено, что у этих людей тоже есть проблемы психологического толка.
Возвращаясь к вопросу, что все психиатры «своеобразны»: не исключено, что эти люди, став тем, кем они стали, хотели бы ответить для себя на определенные вопросы. Наверное, как физики или астрономы. Им тоже хочется узнать, как устроен мир. Мне не кажется, что в попытке что-то для себя объяснить есть какая-то болезненность.
Работа в психиатрии, как мне кажется, предполагает понимание, что не все люди такие, как ты, и умение принимать людей, какие они есть.
На вопрос, почему мне нравится психиатрия, я точно ответить не могу.
Просто она мне безумно интересна. Это единственная врачебная специальность, в которой я вижу поэзию, если так можно сказать. Она открывает какое-то другое измерение или даже много других измерений, заглядывает в глубину, хотя я не могу выразить, в чем эта глубина. И она очень близко подходит к человеку, к самым его основам.
Психиатру каждый день приходится выслушивать истории жизни, которые кажутся почти невероятными, как плохие мыльные оперы – такие они жестокие, грустные, отчаянные, и становится страшновато от того, что они реальные. Еще мне нравится, что эта близость к человеку поднимает массу этических вопросов, которыми другие медицинские специальности вообще не задаются.
У психиатрии очень сложный, многослойный фундамент: кроме нейробиологии, это и психология, и философия, и этика, и право. Мне нравится, что для психиатра нормально, в смысле обыденно, буднично, привычно то, что все считают ненормальным. Некоторое время назад я была свидетелем такой сцены. Общее терапевтическое отделение. В ординаторскую влетает сестра и возмущенно рассказывает, что какая-то пациентка, поступившая с воспалением легких, слышит из капельницы голоса. «Это что же, говорит сестра про больную, она совсем с приветом что ли?». Т.е. у «нормального» человека в голове не уклыдывается, как можно слышать из капельницы голоса. Но ведь некоторые пациенты слышат. Что же они теперь не люди?
Почему это вызывает такое вящее негодование? Неужели голоса не могут быть такой же болезнью, как воспаление легких или мигрень? Почему слышать голоса значит быть с приветом, а не страдать заболеванием?
Почему это звучит как обвинение в адрес человека, как будто в его власти, быть здоровым или нет, слышать голоса или не слышать? Для окружающих психиатрический диагноз человека сливается с ним самим и как-будто говорит за него всё, что окружающим нужно о нем знать. Разумеется, болезнь очень влияет на больного, может делать его апатичным, замкнутым или, наоборот, гиперактивным, привязчивым или подозрительным. Но это всё тот же человек, который не виноват в своей болезни и которому что-то мешает от нее избавиться. Работа в психиатрии, как мне кажется, предполагает понимание, что не все люди такие, как ты, и умение принимать людей, какие они есть.

