графа "род занятий"
Даша Ястребова
о первом фотоаппарате,
"Солянке",
стереотипах и смелости
о первом фотоаппарате,
"Солянке",
стереотипах и смелости
Фотографии из личного архива Даши Ястребовой
Портреты: Eddie Tuvich
Портреты: Eddie Tuvich
В детстве мне хотелось быть феей или волшебницей. Мне хотелось создавать что-то красивое, это было сильное внутреннее чувство, которое я осознанно или нет развивала в себе. Я не видела себя представителем какой-то конкретной профессии. Мои родители медики и художники, то есть, у нас в семье слились материальный и творческий миры.
В детстве я много рисовала и к математике не проявляла никакого интереса. Я думаю, родителям было очевидно, что профессором я не стану, и ждет меня художественная стезя. Они отправили меня в художественную школу. До 14 лет я занималась художественным образованием, переходила из одной школы в другую – мне было очень сложно где-либо прижиться. Я считаю, что в России очень академичный подход к образованию: ты делаешь только так, как делает учитель. Ты не можешь выработать свой стиль, потому что тебя все время пытаются форматировать под то, как "правильно".
У нас очень большая семья – шесть детей, поэтому у меня было много свободы, родители не давили своей гиперопекой и заботой. Я думаю, давить на каждого из нас у них попросту не хватило бы сил. Поэтому я меняла школы, а они терпеливо ждали, когда я найду то, что мне нужно. Я сменила 7 общеобразовательных школ и несколько художественных. И только пару лет назад я нашла своих настоящих учителей, которые уважают личность и свободу своего ученика.
У нас очень большая семья – шесть детей, поэтому у меня было много свободы, родители не давили своей гиперопекой и заботой. Я думаю, давить на каждого из нас у них попросту не хватило бы сил. Поэтому я меняла школы, а они терпеливо ждали, когда я найду то, что мне нужно. Я сменила 7 общеобразовательных школ и несколько художественных. И только пару лет назад я нашла своих настоящих учителей, которые уважают личность и свободу своего ученика.
Я считаю, что в России очень академичный подход к образованию: ты делаешь только так, как делает учитель. Ты не можешь выработать свой стиль, потому что тебя все время пытаются форматировать под то, как "правильно".
Первая камера у меня появилась, когда я училась в Московской международной киношколе в девятом классе. Я училась там на художника театра, на того, кто делает оформление сцены и декорации. Я очень быстро поняла, что это не моя история. Мне было скучно. И тогда папа отдал мне свой Зенит. Я начала фотографировать и пошла на курс у нас в киношколе к Левану Пааташвили. Он был оператором, довольно известным, работал со многими режиссерами, с Кончаловским и многими другими. Он был первым, кто в меня поверил, увидел что-то в моих первых пленках, размазанных, без фокуса и с ужасной экспозицией, и сказал: "Продолжай".
В какой-то момент я осознала, что фотография и может быть гипер реалистичным сюрреализмом, где пространство можно видоизменять, делить на несколько плоскостей. Фотография дала мне гораздо больше, чем живопись.
Родители на мое новое увлечение отреагировали с энтузиазмом, "слава Богу она чем-то занимается". У них не было желания реализовать свои амбиции через меня или кого-то из сестер, поэтому ничего конкретного от меня не ждали, просто наблюдали. Они понимали, что у них необычные творческие дети и давали нам возможность экспериментировать.
Я начала много снимать на пленку. Сначала семью, какую-то жизнь вокруг, своих однокурсников. Честно говоря, первое время мало что получалось… Дурацкий Зенит, самая дешевая пленка Kodak, не было нормальных проявочных. Особых шедевров не было, но после того периода остались какие-то классные семейные картинки. Потом я закончила киношколу, и папа тогда купил такую маленькую мыльницу Sony cyber-shot, у которой крутился объектив. Она была очень современной для того времени. Я начала ее брать с собой, начала больше экспериментировать со своими друзьями тинейджерами – это была юная творческая молодежь, без места куда приткнуться, мы зависали на квартирниках, во дворах, в подъездах…
Я начала много снимать на пленку. Сначала семью, какую-то жизнь вокруг, своих однокурсников. Честно говоря, первое время мало что получалось… Дурацкий Зенит, самая дешевая пленка Kodak, не было нормальных проявочных. Особых шедевров не было, но после того периода остались какие-то классные семейные картинки. Потом я закончила киношколу, и папа тогда купил такую маленькую мыльницу Sony cyber-shot, у которой крутился объектив. Она была очень современной для того времени. Я начала ее брать с собой, начала больше экспериментировать со своими друзьями тинейджерами – это была юная творческая молодежь, без места куда приткнуться, мы зависали на квартирниках, во дворах, в подъездах…
Живопись все больше отходила на второй план. Я понимала, что в академическом рисунке мне душно. Я предчувствовала, что надо будет пройти все круги ада, надо будет много-много лет сидеть перед мольбертом, давать себя ломать, чтобы они смогли сделать из тебя художника "с правильным видением прекрасного". У меня всегда было направление более сюрреалистическое, которое не укладывалось в рамки академической живописи. В какой-то момент я осознала, что фотография и может быть гипер реалистичным сюрреализмом, где пространство можно видоизменять, делить на несколько плоскостей. Фотография дала мне гораздо больше, чем живопись. Живопись отделяет тебя от общества, ты сидишь и рисуешь. А фотография это та же живопись, но в действии: ты выходишь из дома, знакомишься с людьми, оказываешься частью какого-то пространства, между вами происходит движение, обмен.
Меня отправили в фотографический колледж плюс экстернат (10-11 классы) при ВГИКе. Я там отучилась два года и ушла на третьем. Так закончилось мое образование. Всю учебу у меня сложно складывалось общение с преподавателями. Проблема была не в том, что я как-то вызывающе себя вела или нарывалась на конфликты, а в том, что они давали очень скучные задания, и вся техника, с которой мы работали, была очень устаревшая. Преподаватели во ВГИКе – это люди в возрасте, консерваторы, они считали меня бездарностью. Мне было уже 15-16 лет, и у меня был период экспериментальных работ, уже на хорошем уровне, достаточно экспрессивных и смелых. Это была новая фотография, новое поколение фотографов, иное видение, иная Москва. Они пытались меня трансформировать в классика. Классику я тоже чувствую очень хорошо. Но вот эти натюрморты с яйцами на блюде, на трех ступенях… Ты уже начинаешь вовсю работать с журналами, у тебя такой экшн вокруг, а тебя заставляют гипсовые головы снимать в душных студиях с галогенными лампами. Короче говоря, я пошла в практику, я ушла работать.
Меня отправили в фотографический колледж плюс экстернат (10-11 классы) при ВГИКе. Я там отучилась два года и ушла на третьем. Так закончилось мое образование. Всю учебу у меня сложно складывалось общение с преподавателями. Проблема была не в том, что я как-то вызывающе себя вела или нарывалась на конфликты, а в том, что они давали очень скучные задания, и вся техника, с которой мы работали, была очень устаревшая. Преподаватели во ВГИКе – это люди в возрасте, консерваторы, они считали меня бездарностью. Мне было уже 15-16 лет, и у меня был период экспериментальных работ, уже на хорошем уровне, достаточно экспрессивных и смелых. Это была новая фотография, новое поколение фотографов, иное видение, иная Москва. Они пытались меня трансформировать в классика. Классику я тоже чувствую очень хорошо. Но вот эти натюрморты с яйцами на блюде, на трех ступенях… Ты уже начинаешь вовсю работать с журналами, у тебя такой экшн вокруг, а тебя заставляют гипсовые головы снимать в душных студиях с галогенными лампами. Короче говоря, я пошла в практику, я ушла работать.
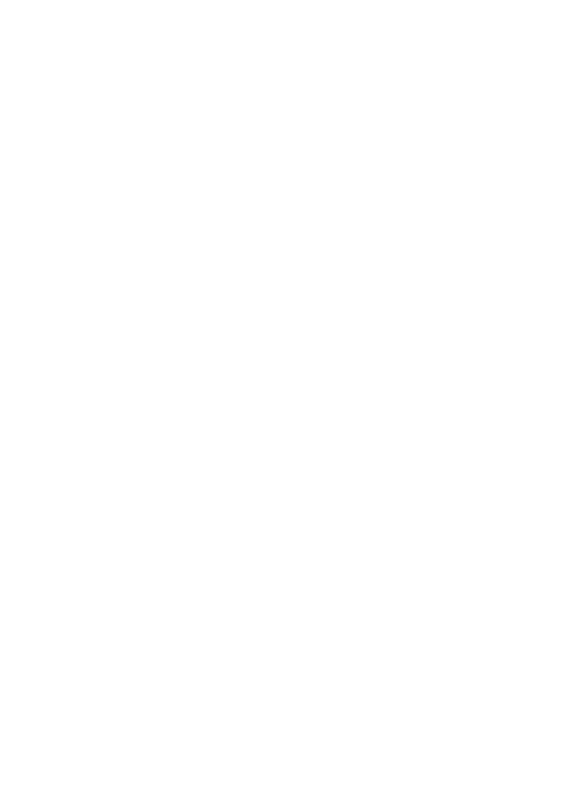
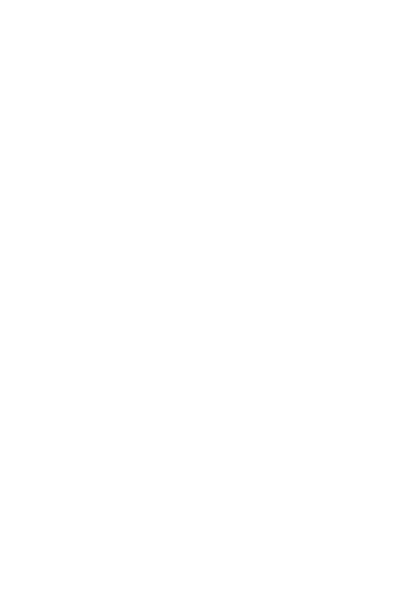
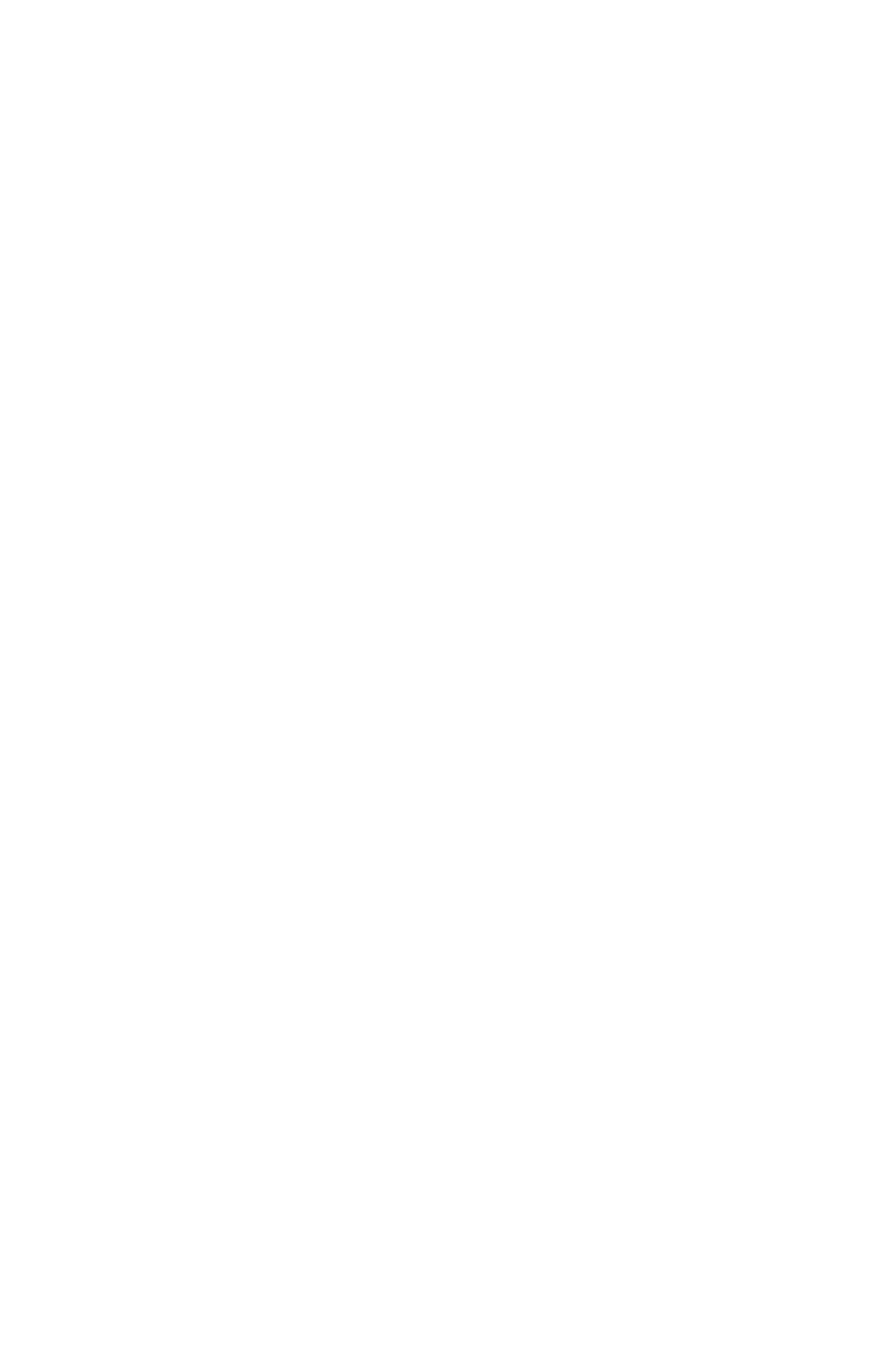
Мне написала Наташа Ганелина из "Афиши". Я тогда вела ЖЖ, который набирал популярность. Я ничего для этого не делала, просто снимала своих друзей, свой движ, выкладывала фотографии, и оказалось, что я была одной из первых, немногих, кто начал фиксировать жизнь своего поколения. Мне написали, "Даш, хотим предложить тебе съемку в Макдональдсе. Бюджет 1000 рублей. Снимайте что хотите". 1000 рублей были хорошие деньги тогда, можно было очень классно потусить. Я привела своих друзей в Макдональдс на Чистых прудах, мы пошли вниз в подвал, а дальше: безудержное веселье и голые подростки, прикрывающиеся гамбургерами. Когда я отправила это в журнал, молодая редакция, они были не сильно старше меня (лет на 7-8, то есть, одно поколение), сказали "О Боже, мы это не опубликуем никогда, это запредельный трэш!"…
Когда я отправила это в журнал, молодая редакция, они были не сильно старше меня (лет на 7-8, то есть, одно поколение), сказали "О Боже, мы это не опубликуем никогда, это запредельный трэш!"…
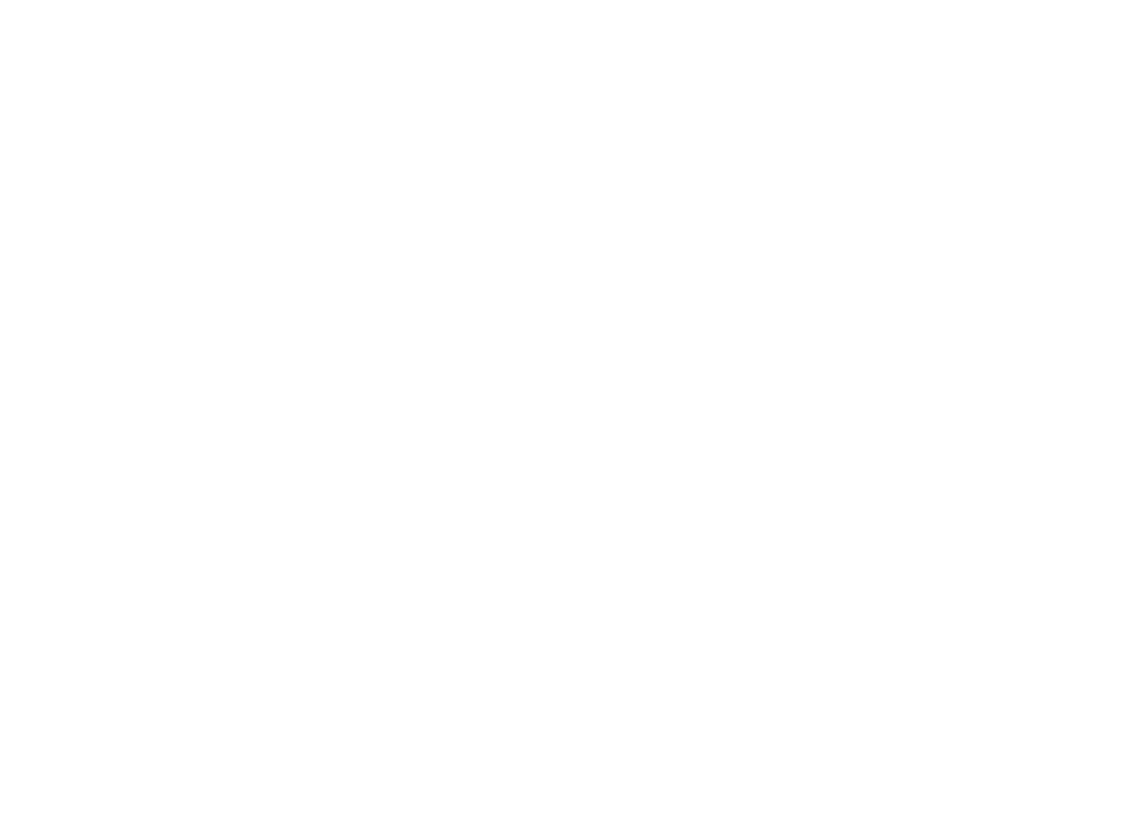
Тогда фотослужбу в "Афише" возглавляла Ира Меглинская, и она сказала: "Ребят, да вы с ума сошли. Это классно, это дико круто, публикуем". Так у нас начался контакт с Ирой Меглинской, она была, можно сказать, моим вторым учителем, вторым проводником. Она в меня поверила, и дальше все стало стремительно развиваться: "Афиша" стала меня чаще звать снимать, потом позвала еще и "Афиша-мир". Потом медиа-волна сама пошла, и заказы стали приходить не только из "Афиши". Мне стали давать задачи, я с ними справлялась как могла – как подросток, который не имеет никакого технического представления, но имеет визуальное художественное ощущение. У меня была вспышка от Зенита, которая включалась в розетку, я ее обожала, – нажимаешь на кнопочку, она вспыхивает. С ней было столько экспериментов. Первая хорошая камера, которую я сама купила, появилась у меня в 21 год.
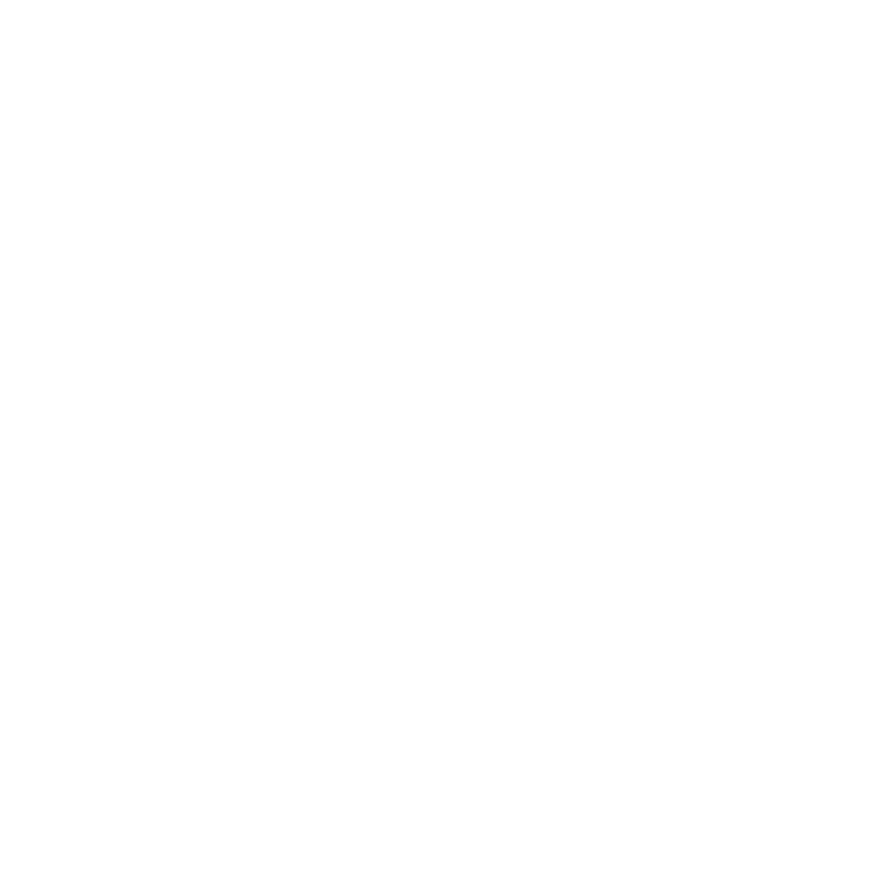
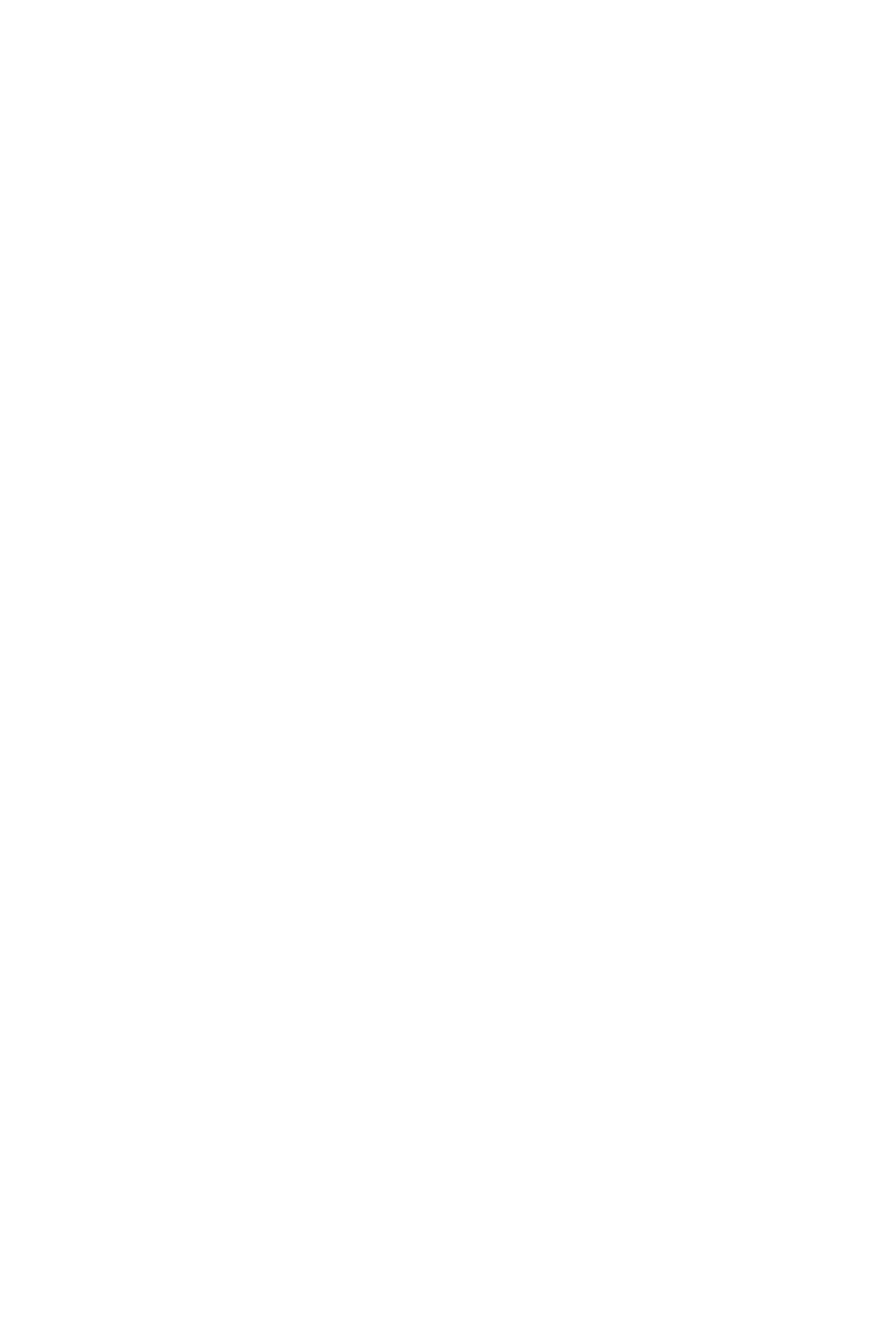
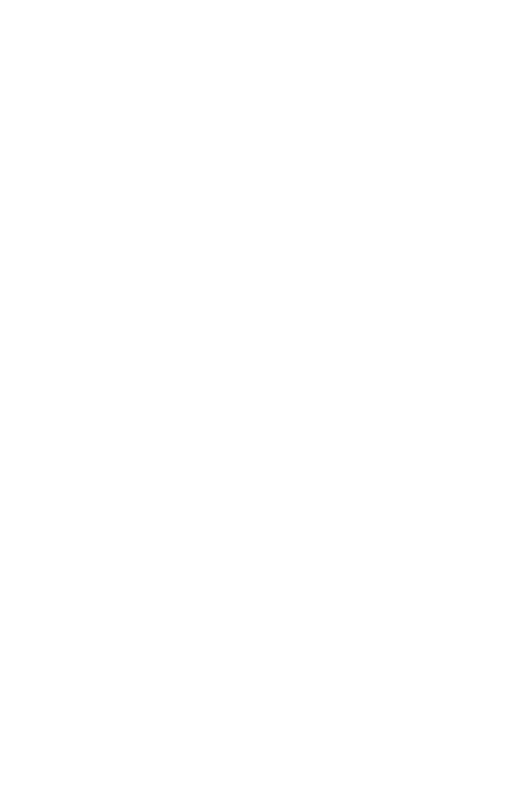
Помню какой-то журнал дал мне задание снять 10 самых сильных ведьм, гадалок, целительниц, цыганок. И я ездила с одной камерой, без света, по окраинам Москвы по их домам и делала портреты. В удивительном месте на Пражской жила госпожа Люба, из цыганской диаспоры, у нее вся квартира была в золоте, в иконах. Ко мне обращались всегда за чем-то, выходящим за рамки понятия нормы, чем-то очень экспериментальным.
Я думаю, что по-настоящему зарабатывать на фотографии я начала после двадцати лет. До этого были совсем маленькие гонорары, я фотографировала скорее за интерес, много снимала своих друзей, но снимала каждый день. Камера всегда была со мной: выходишь из дома, звонишь кому-то, вы пьете вино, что-то снимаете, придумываете, переодеваетесь, гуляете. Сейчас я такое не могу даже представить, совсем нет времени. Такую детскую свободу я чувствую теперь только в путешествиях.
Я думаю, что по-настоящему зарабатывать на фотографии я начала после двадцати лет. До этого были совсем маленькие гонорары, я фотографировала скорее за интерес, много снимала своих друзей, но снимала каждый день. Камера всегда была со мной: выходишь из дома, звонишь кому-то, вы пьете вино, что-то снимаете, придумываете, переодеваетесь, гуляете. Сейчас я такое не могу даже представить, совсем нет времени. Такую детскую свободу я чувствую теперь только в путешествиях.
За моей спиной стоит 15 человек из редакции, которые смотрят на меня с немым вопросом в глазах: "Ну и что ты сейчас классного сделаешь?".
Меня позвали снимать в Vogue в 18 лет. Это тот самый момент, когда мало того, что ты не классно выглядишь, – не знаешь, как себя подать, как краситься, как одеваться. Ты подросток, который только-только в Солянку ходить-то начал. А тут еще проверяют твои профессиональные навыки. Я помню встречу с Аленой Долецкой, помню, я очень странно выглядела и очень сильно стеснялась. Это был очень большой проект по Чехову.
И вот я стою на съемке, растерянная, – я никогда в жизни до этого не работала с импульсным светом, ассистентами, серьезными стилистами и визажистами, не фотографировала селебрити (надо было снимать Равшану Куркову, Елену Морозову, еще несколько актрис). За моей спиной стоит 15 человек из редакции, которые смотрят на меня с немым вопросом в глазах: "Ну и что ты сейчас классного сделаешь?". Сейчас-то я знаю, как можно было сделать все классно. А тогда было страшно, и я потела, волновалась, ругала себя – зачем поставила себя в ситуацию, которая пока еще не моя сильная сторона?
Это была моя первая серьезная и очень стрессовая съемка. Меня тогда успокаивала лишь мысль о том, чтобы это все поскорее закончилось. Когда ты привык быть свободным, делать, что хочешь, без царя в голове, а тут надо было подстраиваться, усмирять себя, было непросто. Но я научилась с этим работать, постепенно научилась разделять творчество, коммерцию, частных клиентов. Мне на это понадобилось несколько лет.
И вот я стою на съемке, растерянная, – я никогда в жизни до этого не работала с импульсным светом, ассистентами, серьезными стилистами и визажистами, не фотографировала селебрити (надо было снимать Равшану Куркову, Елену Морозову, еще несколько актрис). За моей спиной стоит 15 человек из редакции, которые смотрят на меня с немым вопросом в глазах: "Ну и что ты сейчас классного сделаешь?". Сейчас-то я знаю, как можно было сделать все классно. А тогда было страшно, и я потела, волновалась, ругала себя – зачем поставила себя в ситуацию, которая пока еще не моя сильная сторона?
Это была моя первая серьезная и очень стрессовая съемка. Меня тогда успокаивала лишь мысль о том, чтобы это все поскорее закончилось. Когда ты привык быть свободным, делать, что хочешь, без царя в голове, а тут надо было подстраиваться, усмирять себя, было непросто. Но я научилась с этим работать, постепенно научилась разделять творчество, коммерцию, частных клиентов. Мне на это понадобилось несколько лет.
Уже тогда я предчувствовала, что все это заканчивается, – эпоха наших трансух, каблуков, яркого макияжа, потрясающей музыки.
Период Солянки.
До Солянки не было ни одного клуба в Москве, который бы смог в себе объединить зарождающееся новое творческое поколение. Были маленькие, разбросанные клубы для разных субкультур – рокеры, гранжеры, инди, эмо… Все тусовались отдельно. Были вечеринки Idle Conversation в Пропаганде, куда приходили самые яркие и интересные представители творческой тусовки, с этого и началась Солянка.
Я помню, что мы много тусили в Долгопрудном, у друзей, играли рок, пели песни, пили в гаражах, весело по-рокерски проводили время. И вдруг мне кто-то из друзей говорит: "Даша, ну вот зачем тебе эти гаражи? Хватит уже! Пойдемте в "Пропаганду"". И вот мы пришли. Надо сказать, что на тот момент мой ЖЖ был уже очень популярен, но для меня меня было таким шоком, когда ко мне стали подходить люди, и оказалось, что меня очень много кто знает. И все такие красивые, классные, сияющие, интересные. У меня было ощущение, что я пришла домой, и все эти гаражи, инди-концерты и гранж, все это – стоп, закончилось, начинается нью-рейв!
Солянка для меня стала отдушиной, потому что тогда у меня пошел такой возрастающий пик и по выставкам и по каким-то медийным проектам, но при этом еще не было стабильного дохода. В Солянке мне предложили небольшие деньги за репортажи. Тогда я любила тусоваться, мне еще платили за это деньги, у меня был фри-бар и вокруг были классные люди – все сошлось. И что важнее всего, мне давали полную свободу, я могла экспериментировать, меня не форматировали и в итоге получалось классно. Мне удалось задать некий фирменный стиль – ч/б, контраст, вспышка в лоб. Дальше все продолжали снимать в том же духе.
Я давно выделила "Солянку" в отдельный проект. В 2010 или 2011 у меня была выставка на Винзаводе. Наверное, я обладаю экстрасенсорными способностями, потому что уже тогда я предчувствовала, что все это заканчивается, – эпоха наших трансух, каблуков, яркого макияжа, потрясающей музыки. Я назвала ту выставку "Храм былой любви". На открытии играла арфистка, хотелось добавить немного сюра. Тогда выставку и мою ностальгию никто не понял, – вот же есть Солянка, мы ходим тусуемся, что необычного? И при этом иностранцы, которые там были, говорили: "Неужели в России такое есть? Мы хотим там побывать, мы хотим увидеть эту молодежь". Наверное, эту выставку надо было бы делать сейчас, она бы имела больший эффект. Но я сделала ее тогда.
До Солянки не было ни одного клуба в Москве, который бы смог в себе объединить зарождающееся новое творческое поколение. Были маленькие, разбросанные клубы для разных субкультур – рокеры, гранжеры, инди, эмо… Все тусовались отдельно. Были вечеринки Idle Conversation в Пропаганде, куда приходили самые яркие и интересные представители творческой тусовки, с этого и началась Солянка.
Я помню, что мы много тусили в Долгопрудном, у друзей, играли рок, пели песни, пили в гаражах, весело по-рокерски проводили время. И вдруг мне кто-то из друзей говорит: "Даша, ну вот зачем тебе эти гаражи? Хватит уже! Пойдемте в "Пропаганду"". И вот мы пришли. Надо сказать, что на тот момент мой ЖЖ был уже очень популярен, но для меня меня было таким шоком, когда ко мне стали подходить люди, и оказалось, что меня очень много кто знает. И все такие красивые, классные, сияющие, интересные. У меня было ощущение, что я пришла домой, и все эти гаражи, инди-концерты и гранж, все это – стоп, закончилось, начинается нью-рейв!
Солянка для меня стала отдушиной, потому что тогда у меня пошел такой возрастающий пик и по выставкам и по каким-то медийным проектам, но при этом еще не было стабильного дохода. В Солянке мне предложили небольшие деньги за репортажи. Тогда я любила тусоваться, мне еще платили за это деньги, у меня был фри-бар и вокруг были классные люди – все сошлось. И что важнее всего, мне давали полную свободу, я могла экспериментировать, меня не форматировали и в итоге получалось классно. Мне удалось задать некий фирменный стиль – ч/б, контраст, вспышка в лоб. Дальше все продолжали снимать в том же духе.
Я давно выделила "Солянку" в отдельный проект. В 2010 или 2011 у меня была выставка на Винзаводе. Наверное, я обладаю экстрасенсорными способностями, потому что уже тогда я предчувствовала, что все это заканчивается, – эпоха наших трансух, каблуков, яркого макияжа, потрясающей музыки. Я назвала ту выставку "Храм былой любви". На открытии играла арфистка, хотелось добавить немного сюра. Тогда выставку и мою ностальгию никто не понял, – вот же есть Солянка, мы ходим тусуемся, что необычного? И при этом иностранцы, которые там были, говорили: "Неужели в России такое есть? Мы хотим там побывать, мы хотим увидеть эту молодежь". Наверное, эту выставку надо было бы делать сейчас, она бы имела больший эффект. Но я сделала ее тогда.
Наше поколение было более аналоговое. У нас был затруднен доступ к информации. Мы сохраняли картиночки в папочки, потому что понимали, где ж я такое еще найду? Мы переписывали кассеты друг у друга с классной музыкой. Мы одевались в сэконд-хэндах, у нас вообще не было представления о моде, потому что мы ничего толком не видели, мы придумывали свой индивидуальный, уникальный стиль, мы искали его на ощупь. Я помню первые версии Look At Me, – это до сих пор самые позорные фотографии того, как я выглядела в своей жизни. Но мы были первооткрывателями в очень многих отраслях, нам было не страшно, мы все пробовали. Новое поколение, к которому относятся и мои младшие сестры, – это поколение, у которого уже все есть: интернет под рукой, планшеты, телефоны, ноутбуки, всевозможные сайты, все, что хочешь, бери, просвещайся, изучай. У них есть то, чего не было у нас, – неограниченный доступ к любой информации.
Когда человек говорит, "я думаю вот так, выгляжу только так, люблю вот этих людей, этих – не люблю, музыка только такая, еда такая", мне кажется, что можно сразу ложиться в гроб, заколачиваться и отправляться на тот свет.
Первый период у меня был семейный – я снимала своих сестер, родителей, снимала в походах какую-то такую чистую, девственную, невинную атмосферу, романтику. Потом у меня начался подростковый период, когда я поняла, что все не такое чистое и девственное, и пошел гранж, рок, инди, голые подростки и так далее. Это был трэш-период. Лет с 17 и до 20 у меня была готика и поиск формы, я начала работать со светом, техникой, у меня уже были какие-то модели, костюмы, стала появляться команда, но это было все равно еще поиск. С 20 до 24 у меня был яркий период, это были эксперименты с цветом, начался поп-арт, я стала снимать ярко, уверенно. Меня стали привлекать более чистые цвета. С 24 и, думаю, вплоть до сегодняшнего дня я нахожусь в коммерческом периоде: мне уже стали давать хорошие бюджеты, я обросла командой и опытом. Я уже более уверенно себя чувствую на площадке, знаю, как работать со светом, с разными камерами, с командой, понимаю, с какими людьми мне комфортно, с какими – нет, чего я хочу, как я хочу, когда я хочу, какого результата я жду. Поэтому это более уверенный для меня период, но через все эти периоды идет поиск своей картинки – это как периоды у художника, когда ты все время ищешь.
Форма будет всегда меняться, невозможно остановиться. Я меняю стрижку и цвет волос три-четыре раза в год, потому что мне скучно, я хочу перемен. То же самое с гардеробом и с мейк-апом. Когда человек говорит, "я думаю вот так, выгляжу только так, люблю вот этих людей, этих – не люблю, музыка только такая, еда такая", мне кажется, что можно сразу ложиться в гроб, заколачиваться и отправляться на тот свет.
Люди так часто застревают в стереотипах. Те, кто знает меня по "детским" картинкам, говорят: "Ястребова снимает треш! О какой коммерции вообще вы говорите?". Когда я родила, многие вычеркнули меня из профессии автоматически, – это наша русская ментальность, "она родила, она больше не работает". Я очень много приложила усилий, чтобы не выпасть из индустрии: работала беременной, потом с младенцем, приходила на площадку, брала с собой няню. А что делать? У меня просто нет других вариантов, нет вариантов стать матерью, которая сидит дома с ребенком. И это мотивирует шевелиться. Это не просто, но я проделала огромную работу над своим сознанием, чтобы относиться к этому легко, – это мой вечный двигатель.
Люди так часто застревают в стереотипах. Те, кто знает меня по "детским" картинкам, говорят: "Ястребова снимает треш! О какой коммерции вообще вы говорите?". Когда я родила, многие вычеркнули меня из профессии автоматически, – это наша русская ментальность, "она родила, она больше не работает". Я очень много приложила усилий, чтобы не выпасть из индустрии: работала беременной, потом с младенцем, приходила на площадку, брала с собой няню. А что делать? У меня просто нет других вариантов, нет вариантов стать матерью, которая сидит дома с ребенком. И это мотивирует шевелиться. Это не просто, но я проделала огромную работу над своим сознанием, чтобы относиться к этому легко, – это мой вечный двигатель.
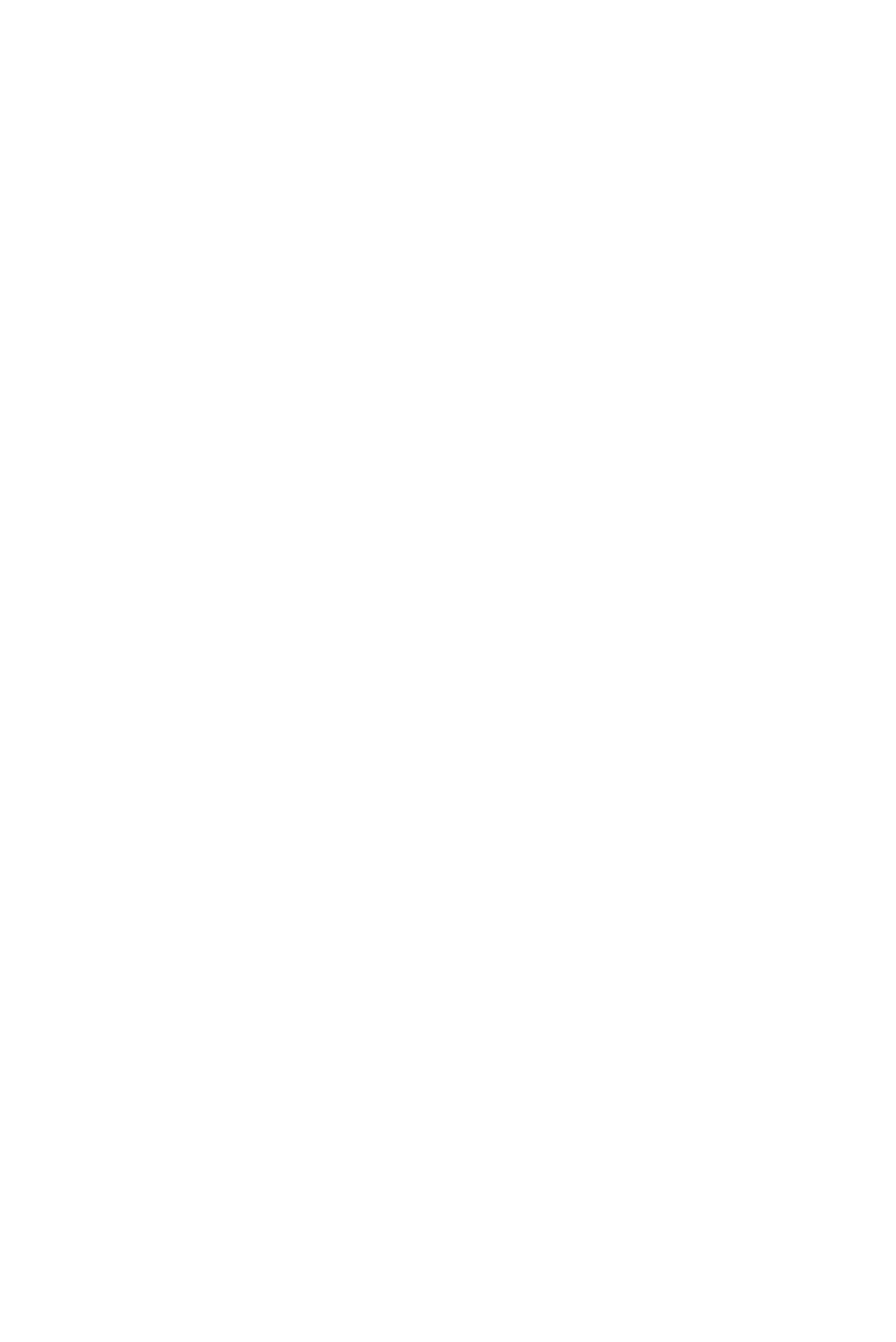
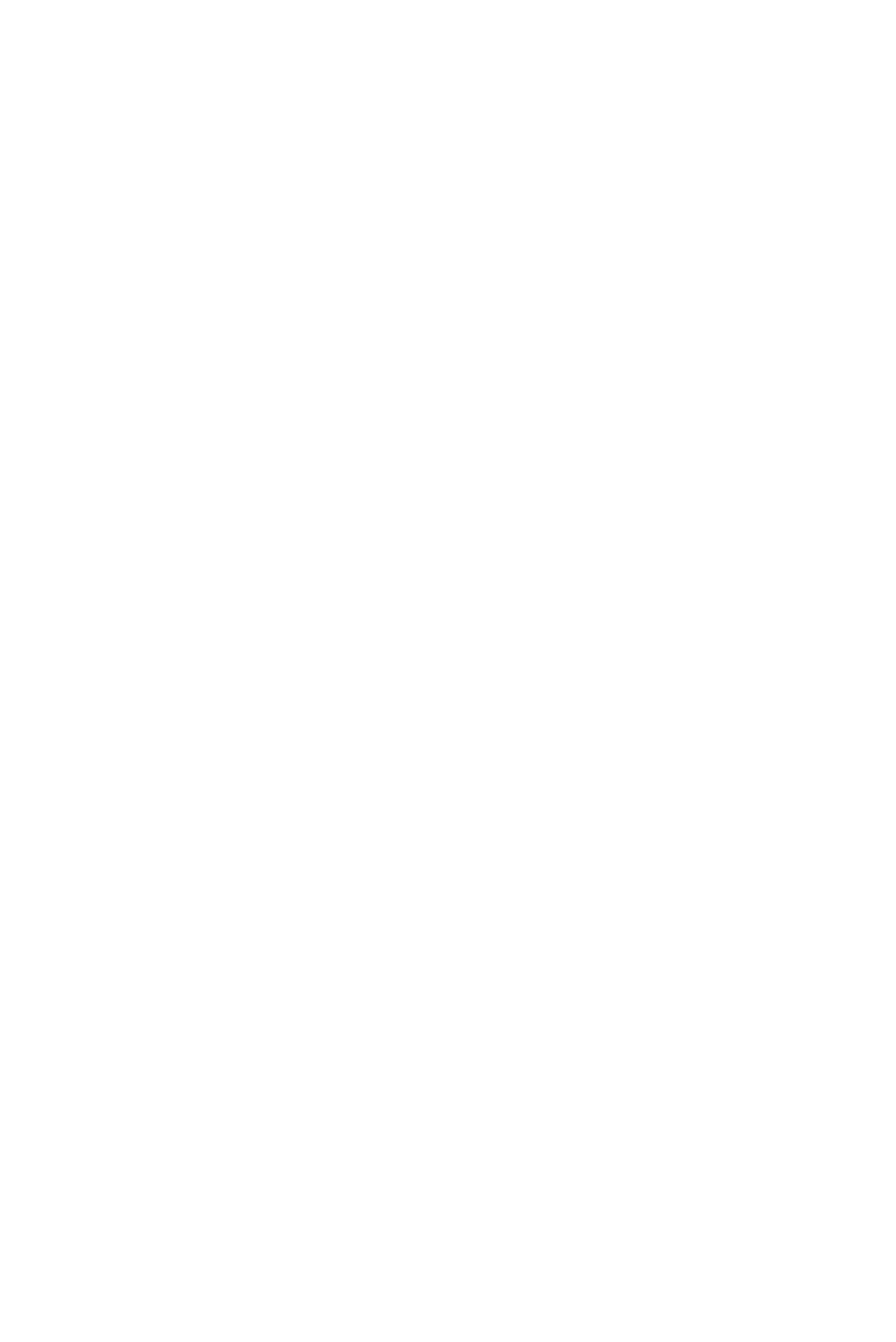
Мое вдохновение – в путешествиях, духовных практиках, в любви к друзьям, к сыну, к мужчинам, к миру, ко всему. Любовь – она бесконечная и красивая. Я вдохновляюсь работами других художников, но не создаю себе кумиров. Да, я собираю себе мудборды, картинки, мне кто-то нравится, возникает ощущение, что у нас созвучные пульсации, вибрации. Я восхищаюсь Алехандро Ходоровски, например. Но не могу сказать, что он мой кумир, но пожалуй, это единственный человек на свете, которому я бы хотела пожать руку, чтобы просто прикоснуться к этому прекрасному потоку сюра, символизма и какой-то оголенной искренности. Я сейчас читаю много его книг и мечтаю с ним познакомиться.
Моя цель как фотографа – исцелять людей. Часто я работаю как психолог на съемках. У меня много частных клиентов, которые ко мне приходят после сильных жизненных потрясений, переломов, разводов. Не только женщины, но и мужчины. И они ко мне приходят уставшие, грустные, не любящие себя, видящие себя искаженно. Моя задача быть идеальным чистым зеркалом для самых лучших их качеств. Через это происходит исцеление, человек себя видит, запускается процесс, "неужели я такой красивый?". А потом встречаешь этого человека через некоторое время и замечаешь, что он таким и становится, потому что начинает верить, что он красивый. Но это одна грань.
Моя цель как фотографа – исцелять людей. Часто я работаю как психолог на съемках. У меня много частных клиентов, которые ко мне приходят после сильных жизненных потрясений, переломов, разводов. Не только женщины, но и мужчины. И они ко мне приходят уставшие, грустные, не любящие себя, видящие себя искаженно. Моя задача быть идеальным чистым зеркалом для самых лучших их качеств. Через это происходит исцеление, человек себя видит, запускается процесс, "неужели я такой красивый?". А потом встречаешь этого человека через некоторое время и замечаешь, что он таким и становится, потому что начинает верить, что он красивый. Но это одна грань.
У меня много частных клиентов, которые ко мне приходят после сильных жизненных потрясений, переломов, разводов. Не только женщины, но и мужчины. И они ко мне приходят уставшие, грустные, не любящие себя, видящие себя искаженно. Моя задача быть идеальным чистым зеркалом для самых лучших их качеств.
Вторая грань – это фотография как творчество. В последнее время я меньше этим занимаюсь, чем раньше и чем мне бы хотелось. Недавно мы закончили один проект с Ромой Ермаковым и Венерой Казаровой про подводный мир. Одни декорации только мы строили два месяца. Технически это был один из самых сложных моих проектов, но что с ним теперь делать, никто не знает. Мне не хватает людей в команде, которые бы знали, куда потом тот или иной проект может пойти, кому он будет интересен.
Второй личный проект был сделан для мультимедийной выставки по Босху на "Artplay". Я специально для этого проекта создала фотографии по мотивам картин Босха. Нашла декорации, костюмы, моделей с особенной внешностью, которые были и олицетворением нового поколения, и предвестниками апокалипсиса. Я потратила около 200 тысяч рублей из своих денег на съемку. Случилась выставка. Но что делать с этим дальше, не понятно. Какой путь у художника? Как это можно дальше продвигать? В России мало коллекционеров, у нас нет понятной схемы взаимодействия с арт-рынком. Я это очень быстро почувствовала и ушла зарабатывать деньги в коммерческие проекты. Большие творческие проекты я продолжаю снимать, но просто потому, что не могу без этого. Возможно, что-то изменится.
Он ушел в искусство, он достиг такого уровня известности, профессионализма, собрал вокруг себя таких людей, что теперь может идти дальше – творить свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Это моя мечта.
Я восхищаюсь творчеством Тима Уолкера, он – супер сказочник, Елены Емчук. Давно наблюдаю за Дэвидом Лашапелем, – это один из самых близких мне авторов по ощущению, и я в огромном восторге от того, что он делает сейчас. Я была в Риме на его выставке, это был гигантский музей с колоннами, с десятиметровыми потолками. Было очень мало людей, потому что в Риме все ходят только по туристическим местам. Было три этажа его работ. Он сейчас ушел от коммерции, от глянца и просто создает арт серии, свою красоту – это потрясающе.
Больше всего меня поразила маленькая черная комната в самом конце выставки, где было несколько экранчиков с бэкстейджами, как они это делали. И вот там мы сидели с подругой и плакали – такая слаженность команды, все на своем месте, все четко, красиво. И никакого фотошопа. Многие думают, что Лашапель весь зафотошопленный, пластиковый и искусственный. Но это не так: он делает серию прешутов, рисует эскизы, у него есть раскадровки, он знает точно, какую позу, какую эмоцию хочет, все репетируют, пробуют, настраиваются, и потом он снимает с одного кадра. До того, как я дошла до мониторов с бекстейджем, я тоже всю выставку ходила и думала: "Ну да, тут клеили, тут коллажировали", а потом увидела бекстейдж, и это магия. Он ушел в искусство, он достиг такого уровня известности, профессионализма, собрал вокруг себя таких людей, что теперь может идти дальше – творить свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Это моя мечта.
Больше всего меня поразила маленькая черная комната в самом конце выставки, где было несколько экранчиков с бэкстейджами, как они это делали. И вот там мы сидели с подругой и плакали – такая слаженность команды, все на своем месте, все четко, красиво. И никакого фотошопа. Многие думают, что Лашапель весь зафотошопленный, пластиковый и искусственный. Но это не так: он делает серию прешутов, рисует эскизы, у него есть раскадровки, он знает точно, какую позу, какую эмоцию хочет, все репетируют, пробуют, настраиваются, и потом он снимает с одного кадра. До того, как я дошла до мониторов с бекстейджем, я тоже всю выставку ходила и думала: "Ну да, тут клеили, тут коллажировали", а потом увидела бекстейдж, и это магия. Он ушел в искусство, он достиг такого уровня известности, профессионализма, собрал вокруг себя таких людей, что теперь может идти дальше – творить свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Это моя мечта.

